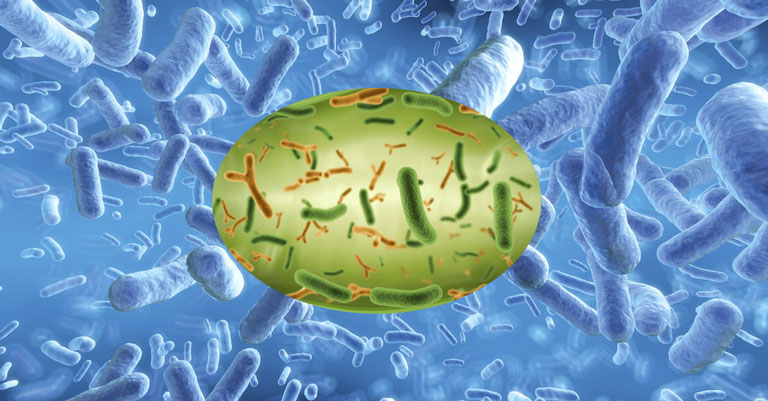Введение
Микробиом кишечника состоит из бактерий, архебактерий, вирусов и эукариот, которые обитают в желудочно-кишечном тракте и взаимодействуют с организмом хозяина по принципу симбиоза. Для примера, бактерии в ЖКТ производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК), которые питают эпителий кишечника, в то время как эпителий вырабатывает слизь, которая питает полезные бактерии.
Микробиом кишечника оказывает влияние на метаболические функции, защищает от патогенов, «обучает» иммунную систему и через эти базовые функции непосредственно или опосредованно влияет на большинство наших физиологических функций. Активная выработка нейромедиатора серотонина в кишечнике дала основание для развития концепции кишечно-мозговой оси [1]. Здоровый и стабильный микробиом может одновременно выступать и как провоспалительный, и как противовоспалительный агент, поддерживая баланс и предупреждая чрезмерную воспалительную реакцию, в то же время сохраняя готовность адекватно ответить на инфекцию [2].
Ключевые слова: микробиом кишечника, метаболом кишечника, собаки, желудочно-кишечный тракт, пробиотики, диарея, диета.
Микробиом кишечника здоровых собак
Вариабельность на протяжении желудочно-кишечного тракта
Исследования микробиома с использованием бактериальных культур или молекулярные методы единогласно подтверждают, что богатство и изобилие бактерий повышается от одного отдела ЖКТ к другому [3]. Начальные исследования с бактериальными культурами показали, что численность бактерий в тонким кишечнике ниже, чем в толстом, с общим содержанием микроорганизмов, меняющимся вдоль ЖКТ от 102 до 1011 колониеобразующих (КОЕ) единиц на 1 грамм содержимого просвета кишечника [4; 5]. Молекулярные методы позволили выявить не поддающиеся культивированию бактерии, присутствующие в ЖКТ собак, и общее содержание микроорганизмов на сегодняшний день находится в интервале от 1012 до 1014, что примерно в 10 раз выше числа клеток организма носителя [6].
Микробные сообщества на протяжении ЖКТ изменяются в зависимости от условий микросреды и физиологических функций каждого отдела кишечника. К примеру, тонкий кишечник является местом обитания смеси аэробных и факультативных анаэробных бактерий, в то время как толстый кишечник колонизирован почти только анаэробами. На протяжении ЖКТ бактериальное разнообразие представлено в основном пятью таксонометрическими типами: Firmicutes, Fusobacteria, Bacteroidetes, Proteobacteria и Actinobacteria [3; 7].
Различия в таксонометрическом разнообразии на протяжении ЖКТ отражаются на продукции и потреблении различных метаболитов. По мере продвижения по ЖКТ концентрация большинства метаболитов увеличивается или уменьшается постепенно, однако концентрация некоторых резко снижается в конце подвздошной кишки, а иногда колеблется на протяжении всего ЖКТ [7]. Метаболомика — учение о метаболитах, представляет собой новую область исследований, которая имеет задачу выявлять и анализировать взаимные метаболические изменения между организмом носителя и микробиомом. Метаболомические данные могут дополнять метагеномику в исследовании микробиома кишечника, а также позволяют учёным перейти от вопроса «какие микроорганизмы там присутствуют?» к, вероятно, более актуальному вопросу «что они там делают?».
Несмотря на таксономические вариации на протяжении ЖКТ, образцы из определённых отделов ЖКТ трудно достать, поэтому большинство клинических исследований сфокусировано на фекальной микрофлоре. Образцы фекалий собак достоверно содержат большинство значимых таксономических единиц, чего не скажешь о людях, у которых большинство значимых таксономических единиц тесно связано со слизистой оболочкой ЖКТ [8]. Эти различия могут быть связаны с анатомией ЖКТ собак, который короче, чем у людей, что сокращает время прохождения содержимого через ЖКТ — это факт, благоприятный для исследований микробиома кишечника у собак.
В то время как данные о составе микрофлоры различаются от исследования к исследованию, важно отметить, что независимо от используемых методов ключевые виды бактерий всегда присутствуют в образцах фекалий здоровых собак — это значит, что в фекалиях существует основное бактериальное сообщество. В микробиоме фекалий здоровых собак в равной степени преобладают три таксономических типа: Fusobacterium, Bacteroidetes и Firmicutes [9; 10]. При анализе литературы можно обнаружить большие расхождения в процентных соотношениях численности отдельных бактериальных таксономических единиц. При этом важно отметить, что методы определения и анализа данных находятся в постоянном развитии, и большинство из приведённых выше различий может быть связано с методами определения бактерий и/или анализа данных. На самом деле, даже точность различных методов определения (например, количество проб из одного образца) может влиять на сходство данных, а в новых методах можно выполнить значительно большее число проб на один образец. Также существуют индивидуальные отклонения в профиле микробиома [11; 12]. В особенности это следует принимать в расчёт при анализе данных, полученных от маленьких опытных групп.
Внутри основного бактериального сообщества множество основных таксономических единиц принадлежит к типу Firmicutes. Бактериальный класс Clostridia обычно представлен наиболее разнообразным составом, среди которого доминируют три группы клостридий: IV (к примеру, сем. Ruminococcaceae, Faecalibacterium prausnitzii), XI (сем. Peptostreptococcaceae) и XIVa (сем. Lachnospiraceae, Blautia spp.) [8; 13; 14]. Кроме клостридий, сопутствующие преобладающие классы внутри таксономического типа Firmicutes представлены классами Bacilli и Erysipelotrichi. Класс Bacilli представлен почти полностью отрядом Lactobacillales, с доминирующими видами Streptococcus и Lactobacillus. Класс Erysipelotrichi в основном включает виды Turicibacter, Catenibacterium и Coprobacillus [14; 15].
Bacteroidetes — это ещё один таксономический тип, преобладающий в анализах фекалий собак; он представлен видами Prevotella, Bacteroides и Megamonas [10; 14]. У наиболее распространённых родов Bacteroides и Prevotella наблюдаются значительные различия в количественном содержании в микробиоме у отдельных собак. Интересно отметить, что общее содержание Prevotella и Bacteroides находится в обратной зависимости от содержания представителей типа Fusobacteria, что может означать, что они занимают одну и ту же нишу [8].
Внутри таксономического типа Fusobacteria род Fusobacterium встречается у здоровых собак контрольных групп. Интересно, что у людей Fusobacterium связаны с заболеваниями ЖКТ, таким образом, Fusobacterium играют различные роли в ЖКТ собак и человека [8]. Присутствие Fusobacterium повышено у собак, которые имеют доступ на улицу [16], высокие уровни Fusobacterium отмечаются и у других хищных видов [17–19].
Также часто встречаются типы Proteobacteria и Actinobacteria. Эти типы обычно колонизируют тонкий кишечник и при нормальных физиологических состояниях встречаются в фекалиях в небольших количествах. К примеру, представители семейства Enterobacteriaceae (такие как Escherichia coli) являются факультативными анаэробами, что даёт им преимущество использовать кислород, доступный в тонком кишечнике. Их большое содержание в фекалиях сопровождает многие заболевания, что будет освещено далее в этой статье. Actinobacteria также обитают в тонком кишечнике и включают семейства Corynebacteriaceae (Corynebacterium spp.) и Coriobacteriaceae (Collinsella spp.) [7].
Влияние диеты на микробиом кишечника
Собаки по природе своей являются плотоядными падальщиками, это значит, что в их диете большое количество мяса, но они не побрезгуют любой доступной пищей. Большинство исследований микробиома собак проходило с использованием экструдированного корма (также известного как гранулированный), который представляет до 95% рынка сухого корма. Обычно процесс экструзии требует большого содержания углеводов, что достигается включением растительных компонентов. Однако в настоящее время стали доступны и другие технологические процессы, и некоторая часть рынка представлена экструдированными кормами со сниженным содержанием углеводов и повышенным содержанием белков. Также набирают популярность «сырые» диеты, замороженные или сублимированные, которые обычно имеют в основе мясо и содержат малое или незначительное количество углеводов.
Несколько исследований у разных видов показали, что состав диеты — в особенности большие отличия в содержании макронутриентов, которые можно отметить при сравнении диет хищников и травоядных — отражается на различиях в профилях микробиома. У омниворов, включая людей, которые могут существовать на любом типе пищи, кратковременного изменения диеты, состоящей преимущественно из растительных или животных продуктов, достаточно, чтобы повлиять на структуру бактериального сообщества и вызвать значительные изменения экспрессии микробных генов [20]. У людей употребление диет на основе животной пищи повышает присутствие устойчивых к жёлчи микроорганизмов и снижает количество представителей типа Firmicutes, которые включают виды, утилизирующие растительные полисахариды. У собак, как и у людей, повышение содержания растительной клетчатки в гранулированных кормах приводит к повышению общего содержания представителей типа Firmicutes и снижению количества представителей типов Fusobacteria и Proteobacteria [9; 21].
Однако для собак, по-видимому, происхождение ингредиентов менее важно, чем общее содержание макронутриентов. Гранулированные сухие корма со схожим содержанием макронутриентов, но приготовленные исключительно из растительных источников белка, не влияют в значительной мере на состав микробиома у собак по сравнению с обычными (содержащими животные и растительные компоненты) гранулированными сухими кормами [22].
Несколько исследований было проведено для оценки влияния сырых диет на основе мяса на микробиом кишечника здоровых собак в сравнении с собаками, получавшими гранулированный корм. В одном из исследований [23] собаки получали еду по системе кормления BARF (Bones and Raw Food), состоящую из смеси сырого мяса, субпродуктов, съедобных костей и овощей. В итоге по сравнению с гранулированным кормом, который получали собаки контрольной группы, домашняя пища содержала больше белка и жира, меньше клетчатки и углеводов. В другом исследовании [19] оценивали диету из красного мяса, содержащую только говядину, субпродукты, кости и минеральную добавку, чтобы соблюсти рекомендации Американской ассоциации работников государственных органов ветеринарно-санитарного контроля за качеством кормов (AAFCO). Диета из красного мяса содержала больше протеина, но меньше жира, клетчатки и углеводов, чем гранулированный корм.
Обе диеты значительно отличались по макронутриентному составу в сравнении с коммерческими гранулированными кормами, в частности, содержали меньше клетчатки и углеводов и больше протеина, и привели к схожим сдвигам микробной популяции микробиома по сравнению с собаками контрольной группы, которые получали гранулированные корма. В обоих исследованиях собаки, получавшие сырые диеты, демонстрировали общее снижение присутствия представителей типа Firmicutes [23], включая роды Peptostreptococcus и Faecalibacterium и роды Bacteroides и Prevotella (таксономический тип Bacteroidetes) [19]. Большинство из этих родов отвечают за переваривание клетчатки и продукцию короткоцепочечных жирных кислот, снижение ферментации клетчатки и углеводов говорит о снижении уровня их потребления этими бактериями. Другие типы бактерий, наоборот, показали повышение численности, включая представителей типов Proteobacteria и Fusobacteria (род Fusobacterium) и два рода из таксономического типа Firmicutes (Lactobacillus и Clostridium) [19; 23].
В этих исследованиях собаки получали сырую диету по системе BARF в течение как минимум 4 недель (от 4 недель до 9 лет), а диету из красного мяса — 3–9 недель [19]. В одном исследовании собаки получали сырую диету на протяжении хотя бы 1 года и продемонстрировали в значительной мере более богатый микробиом по сравнению с собаками контрольной группы, получавшими гранулированный корм [24]. У собак опытной группы установлено повышение численности Clostridium perfringens и Fusobacterium varium и снижение численности Coprobacillus sp. по сравнению с контрольной группой. Однако исследование [24] включало только 6 животных, необходимы исследования с более крупными когортами для подтверждения этих результатов.
В другом исследовании [25] здоровых собак перевели на диету из гранулированного корма с высоким содержанием говяжьего фарша. Из-за отсутствия сформулированных требований к мясному питанию в сочетании с коротким периодом наблюдения (лишь 1 неделя для каждой комбинации) результаты следует интерпретировать с осторожностью. Несмотря на это, они показали сходные результаты, снижение Faecalibacterium и повышение численности двух штаммов Clostridiaceae.
Интересно отметить, что один из штаммов Clostridiaceae был впоследствии дифференцирован как Clostridium hiranonis — вид бактерий, способствующий нормальному метаболизму жёлчных кислот [25; 26].
Ещё одно исследование микробиома [23] описало нормальный метаболизм жёлчных кислот у здоровых собак, получавших диету по системе BARF, без значительного отличия от собак группы контроля, получавших гранулированный корм. Метаболизм жёлчных кислот необходим не только для переваривания жиров, но и для контроля воспалительных процессов в кишечнике, и обычно нарушен при хронических заболеваниях ЖКТ [26; 27].
Несмотря на связь с заболеваниями ЖКТ (Clostridium perfringens и Clostridioides difficile являются потенциальными патогенами, это будет подробнее описано далее в этой статье), предполагается, что повышение численности представителей семейства Clostridiaceae (Clostridium) при кормлении собак высокобелковыми диетами не является вредным для их здоровья [19], а скорее связано с перевариванием белка. Повышение численности представителей семейства Clostridiaceae обнаружило положительную корреляцию с содержанием белка в рационе [19]. В то же время численность Clostridiaceae также положительно коррелирует с переваримостью белка и отрицательно коррелирует с содержанием белка в фекалиях (то есть большая численность Clostridiaceae обеспечивает меньшую потерю белка с фекалиями). Эти находки свидетельствуют, что бактерии семейства Clostridiaceae могут играть роль в метаболизме белка в ЖКТ собак, что отличается от их роли в толстом кишечнике крыс, где представители семейства Clostridiaceae отвечают за переваривание углеводов. Вдобавок численность представителей семейства Clostridiaceae положительно коррелирует с нормальным видом фекалий (то есть фекалии более плотные) и отрицательно коррелирует с выходом фекалий (меньше выход фекалий).
Необходимо соблюдать осторожность при экстраполяции данных от омниворов на хищников. Влияние диеты на численность Bifidobacterium spp. (Bifidobacteriaceae), Lactobacillus spp. (Lactobacillaceae) и Faecalibacterium spp. (Ruminococcaceae) в микробиоме часто исследуют, так как эти бактерии считаются полезными для омниворов [28]. Их польза связана с их ролью в производстве продуктов ферментации углеводов, которые затем конвертируются в бутират через бутирил-КоА: ацетат-CoA-трансферазный путь. Роль бутирата, короткоцепочечной жирной кислоты, для здоровья кишечника неоспорима, так как бутират является предпочтительным источником энергии для клеток стенки толстого кишечника [29].
Однако бутират может быть обнаружен в образцах фекалий всех млекопитающих независимо от их источников питания. Таким образом, у млекопитающих, которые потребляют низкое количество углеводов или не потребляют их вовсе, должны существовать альтернативные пути продукции бутирата. В исследовании диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием крахмала (с добавлением свиного сала) у собак уровни ацетата, бутирата и пропионата не отличались от таковых у собак, которые получали диету с низким содержанием жира и высоким содержанием крахмала (с добавлением кукурузы и дроблёного риса), это означает, что продукция короткоцепочечных жирных кислот у собак не зависит от содержания углеводов в рационе [30]. В поддержку этой гипотезы результаты другого исследования [25] показали, что добавление мясного фарша к обычному гранулированному корму приводит к небольшому увеличению содержания в фекалиях бутирата и изовалерата.
Недавнее исследование выявило, что у хищников представители семейства Clostridiaceae, и, в частности, Clostridium perfringens, участвуют в пути синтеза бутират — бутираткиназа, который позволяет синтезировать бутират из белка [17]. Ещё одна бактерия, способная производить бутират из белковых источников — это Fusobacterium varium [31], численность которой была выше у собак, получавших сырую диету на основе мяса как минимум в течение 1 года, что говорит об адаптации микробиома к длительной диете [24]. В дополнение представители семейства Fusobacteriaceae в большом количестве присутствуют у других хищных видов (кошки [18; 32], волки [33; 34], другие хищники [17; 35]) и собак, которые получают натуральный корм [19; 23; 36].
Эти данные наводят на вопрос, имеют ли бактерии, специализирующиеся на утилизации углеводов, одинаковое значение в ЖКТ омниворов и хищников [19]. Вероятно, у хищников продукция бутирата хотя бы частично обеспечена другими видами бактерий, в частности, представителями семейств Clostridiaceae и Fusobacteriaceae, что может обусловливать их большую численность у собак, получающих необработанную пищу.
BARF диеты приводили к повышению содержания гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора и предшественника гамма-гидроксимасляной кислоты (ГГМ) [23]. ГАМК и ГГМ быстро всасываются из ЖКТ при пероральном применении [37; 38], и продукты питания, богатые ГАМК-продуцирующими бактериями, доступны в Японии для лечения гипертензии [39]. Связь кишечника и мозга изучалась при многих заболеваниях, у собак и других видов, это легло в основу теории кишечно-мозговой оси [40].
Другой нейромедиатор, серотонин, необходим для здоровья кишечника. Около 90 % синтеза серотонина в организме происходит в кишечнике, где он регулирует моторику, секрецию и кровяной поток посредством энтеральной части вегетативной нервной системы [41]. Продукция серотонина также частично контролируется микробиомом, в том числе непосредственным синтезом серотонина бактериями [42] или поглощением его предшественника — аминокислоты триптофан [1]. Микрофлора кишечника необходима для развития энтеральной части нервной системы. Стерильные лабораторные мыши демонстрируют ненормально повышенную двигательную активность и сниженный контроль тревожности, которые нормализуются после колонизации микрофлорой от обычных мышей [43].
Развитие, стабильность и упадок микробиома кишечника
Независимо от вида колонизация ЖКТ у млекопитающих начинается ещё до появления новорождённого из родовых путей. Первичная колонизация варьируется в зависимости от особенностей рождения и питания, и разнообразие микробиома будет со временем развиваться [44]. У людей новорождённые при вагинальных родах получают микробные популяции от микрофлоры влагалища матери, в то же время новорождённые, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, получают микробиальные популяции с кожи матери [45]. Пока не было проведено исследований у собак, рождённых с помощью кесарева сечения, новорождённые щенки получают бактерии из микрофлоры влагалища и фекальной микрофлоры с языка матери, при этом эффективность метода доставки неясна.
У собак, как и у людей, созревание микробиома до схожего по составу с микробиомом взрослых происходит к моменту окончания грудного вскармливания. В исследовании на щенках в возрасте от 1 недели до 1 года [46] микробиом щенков значительно отличался в первые недели жизни, с преобладанием представителей типа Proteobacteria. В возрасте 9 недель при этом содержание типа Proteobacteria значительно снижалось и повышалась численность Faecalibacterium spp. и Clostridium hiranonis, со значениями, характерными для здоровых взрослых собак. При этом микробиом взрослых однопомётников был схож по составу и отличался от микробиома неродственных собак. Это указывает на значение генетических факторов и колонизации в начале жизни [10].
Условия содержания, в особенности другие домашние обитатели могут оказывать влияние на микробиом кишечника. В исследовании, сравнившем собак и их владельцев, наблюдалось значительное сходство микрофлоры кожи собак и их владельцев, чего нельзя сказать о животных и людях, которые не проживают вместе, менее выраженный эффект наблюдался в отношении микрофлоры фекалий [16]. В то время как общее влияние этого обмена микрофлоры, по всей видимости, невелико, следует иметь в виду проживающих вместе индивидуумов со сниженным иммунитетом с точки зрения потенциального зоонозного влияния [47].
У здоровых взрослых особей многих видов микробиом кишечника со временем становится стабильным. У собак наблюдаются лишь кратковременные изменения, при этом микробиом остаётся относительно стабильным в течение двухнедельного периода [14]. В исследовании у взрослых людей, не принимающих антибиотики, более 70 % видов бактерий, представленных в фекалиях одного индивида, были стабильны на протяжении 1 года, а подсчёты показали, что большинство видов, по всей видимости, сохраняются десятилетиями у лиц со стабильной массой тела [48]. Хотя данные за более длительный период недоступны для собак, можно обоснованно предполагать, что микробиом кишечника может быть стабильным у здоровых взрослых животных, потенциально — на протяжении всей жизни. Совокупность бактериальных таксонов была принята за основу, необходимую для здоровья ЖКТ [8], на основании чего был разработан индекс дисбактериоза, который позволяет оценивать микробиом кишечника с помощью ряда ПЦР [49]. Индекс дисбактериоза будет обсуждаться далее в этой статье.
Микробное разнообразие ЖКТ снижается с возрастом у некоторых видов, и его снижение коррелирует с нарастанием слабости и снижением когнитивной функции [50]. Старение иммунной системы у возрастных пациентов сопровождается инфламайджингом — хроническим вялотекущим воспалением, которое сопровождается нарушением баланса в составе микробиома [51]. В исследовании, проведённом на исключительно долгоживущих видах летучих мышей, было отмечено, что микробиом здоровых возрастных летучих мышей был очень схож с микробиомом молодых летучих мышей, что указывает на связь здоровых лет жизни и состав микробиома [52]. Микробиом возрастных собак ещё не был изучен, необходимы дальнейшие исследования для ответа на вопрос, могут ли стратегии сохранения разнообразия иммунитета у пожилых отсрочить старение иммунитета и продлить жизнь.
Микробиом кишечника при заболеваниях
В то время как возраст, диета и факторы окружающей среды могут значительно влиять на состояние здорового микробиома, вызванные этими факторами отклонения могут бледно выглядеть по сравнению с отклонениями, наблюдаемыми у больных животных. Многие заболевания, системные или локализованные, влияют сами или находятся под влиянием микробиома кишечника и сопровождаются дисбактериозом.
Дисбактериоз кишечника представляет собой отклонения в составе микрофлоры кишечника, которые приводят к функциональным изменениям в микробном транскриптоме, протеоме и метаболоме [53]. Повышение численности факультативных анаэробных бактерий семейства Enterobacteriaceae является характерным признаком дисбактериоза [54], что также отмечается и у собак [8].
Ранее предполагали, что кислород может быть причиной изменений в транскриптоме, протеоме или метаболоме микрофлоры [55]. Эта гипотеза основана на доступности кислорода в просвете кишечника, которая может увеличиваться в условиях повышенной проницаемости стенки кишечника, включая воспаление [54]. Как результат повышение количества свободного кислорода негативно влияет на популяцию облигатных анаэробов и приводит к неконтролируемой экспансии просвета кишечника факультативными анаэробами, особенно представителями семейства Enterobacteriaceae [53]. Гипотеза, что кислород отдельно или в комбинации с другими дыхательными акцепторами электронов контролирует численность представителей семейства Enterobacteriaceae в толстом кишечнике, имеет различные варианты понимания того, как нарушения гомеостаза кишечника приводят к дисбактериозу.
Состав микрофлоры кишечника также оказывает заметный эффект на функцию иммунной системы и регулирует местную выработку антител. Хотя микроорганизмы кишечника отделены слизистой оболочкой кишечника и поверхностным гликопротеидным слоем от прямого контакта с энтероцитами, дендритные клетки кишечника могут выпускать свои отростки в просвет кишечника для анализа микрофлоры. Большинство инвазивных бактерий уничтожаются макрофагами и некоторые презентуются В-клеткам. В-клетки вырабатывают IgA, который секретируется в просвет кишечника, прикрепляется к бактериям и активирует целевую деструкцию бактерий [2].
Кишечные предшественники Т-хелперов могут дифференцироваться в регуляторные Т-клетки или наивные Т-клетки в зависимости от сигналов, получаемых от микрофлоры [2]. В условиях гомеостаза доминирует образование регуляторных Т-клеток, в это время образование наивных Т-клеток тормозится, и уровень воспаления кишечной стенки минимальный. В отсутствие регуляторных клеток неконтролируемые эффекторные Т-клетки будут реагировать на микробные антигены и запускать воспалительную реакцию [2]. Специфические группы бактерий микробиома могут влиять на этот процесс: к примеру, представители Clostridium групп IV и XIVa стимулируют образование регуляторных Т-клеток [56], запуская противовоспалительный ответ, в то время как сегментоядерные нитчатые бактерии способны индуцировать образование наивных Т-клеток, генерируя провоспалительные сигналы.
Воспаление в кишечнике также может быть вызвано дисбактериозом кишечника через нарушение метаболизма жёлчных кислот, что наблюдается как у собак, так и у людей [26; 27; 28]. Жёлчные кислоты необходимы для переваривания жиров, но также играют роль в защитной функции слизистой оболочки и обладают противовоспалительными свойствами. Бактерии в просвете кишечника отвечают за деконъюгацию и дегидроксилирование жёлчных кислот, поэтому дисбактериоз может стать причиной появления вторичных жёлчных кислот. Хронические заболевания кишечника также могут стать причиной снижения выработки апикального натрий-зависимого транспортёра жёлчных кислот, который необходим для реабсорбции связанных первичных жёлчных кислот [27]. Все вместе эти данные указывают, что дисбактериоз и кишечное воспаление могут значительно влиять на метаболизм жёлчных кислот, который, в свою очередь, может ещё больше стимулировать воспаление.
Дисбактериоз наблюдается при многих патологиях — местных, в пределах ЖКТ, и системных [59]. За пределами охвата данной статьи остаются недавно выпущенные труды, связавшие дисбактериоз с ожирением [60], метаболическими заболеваниями [61], раком [62], неврологическими нарушениями [63] и многими другими патологиями у людей и собак. Однако при интерпретации этих результатов необходимо соблюдать осторожность. В то время как связь дисбактериоза и перечисленных заболеваний была найдена, причинно-следственная связь пока не установлена, и дисбактериоз может быть как симптомом заболевания, так и его причиной.
Микробиом кишечника и заболевания ЖКТ
Нарушения функции ЖКТ наиболее очевидно связаны с дисбактериозом. Установлено, что на микробиом кишечника влияет как хроническая, так и острая диарея. Как и у здоровых собак, исследования показали различный процент численности бактерий разных таксонов у собак с заболеваниями ЖКТ, однако большинство таксонов устойчиво повышается или понижается при сходном фенотипе заболевания.
Большинство значимых различий между результатами исследований может быть связано со сложностью забора образцов от хорошо обследованных пациентов из-за нежелательных для исследований факторов, таких как недавнее применение антибиотиков. Эти сложности сопровождаются ограниченностью бюджета, что приводит к малому количеству образцов, а это, в свою очередь, ограничивает статистическую силу. Новые технологии делают более доступным типирование метагенома, и с увеличением количества образцов в каждом исследовании такие сложности методологии станет легче преодолевать.
При острой неосложнённой диарее у собак развивается сильный дисбактериоз со снижением короткоцепочечных жирных кислот, которые продуцируют такие бактерии, как Blautia spp., Ruminococcus spp., Faecalibacterium praunitzii и Turicibacter spp. [64], и повышением численности представителей рода Clostridium [26]. Микробное разнообразие уменьшается, и микробиом будет значительно отличаться от такового у здоровых собак.
Несмотря на своё невыраженное клиническое проявление, острая диарея сопровождается дисбактериозом в фекалиях, который сильно коррелирует не только с содержанием короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях, но также и с метаболитами в крови и моче, указывая, что острые эпизоды диареи влияют на общий метаболический профиль организма. Одно из исследований [65] показало, что, в то время как численность продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты бактерий была снижена в образцах фекалий собак с острой диареей, при определении содержания короткоцепочечных жирных кислот только концентрация пропионата была значительно снижена. Напротив, концентрация бутирата была повышена в образцах фекалий от собак с острой диареей. По мнению авторов, противоречие возникает из-за снижения абсорбции бутирата или сниженной утилизации бутирата энтероцитами. Интересно отметить, однако, что была повышена численность Clostridium sp., которые ранее считались способными производить бутират из белка, используя альтернативный путь, это может служить другим объяснением повышения уровня бутирата.
Сходные отклонения наблюдались у собак с синдромом острой геморрагической диареи, также известным как геморрагический гастроэнтерит (ГГЭ) [66]. Несмотря на разницу в клинических проявлениях, собаки с острой диареей и геморрагическим гастроэнтеритом имеют сходные изменения в бактериальных группах микробиома [65]. По сравнению со здоровыми собаками собаки с острой диареей и ГГЭ имеют сниженную численность представителей семейства Ruminococcaceae и Faecalibacterium spp. Исследования показали связь между ГГЭ и Clostridium perfringens [66], однако их энтеротоксин не обнаруживается в образцах фекалий при ГГЭ [67]. Ген недавно открытого токсина netF был выявлен в геноме C. perfringens, изолированных из образцов биопсии кишечника собак с ГГЭ [68]. А также другие исследования определили высокую корреляцию между присутствием гена токсина netF в образцах фекалий и ГГЭ [69], а выздоровление при ГГЭ сопровождалось значительным снижением гена netF и численности C. perfringens [70]. Вместе эти результаты говорят, что токсин netF может иметь значение в образовании некротизированных повреждений при ГГЭ.
Роль другой клостридии, которая заслужила большое внимание в медицине человека, Clostridioides difficile (ранее известная как Clostridium difficile) [71], является противоречивой для собак. В то время как инфекция C. difficile у людей хорошо изучена и обычно развивается при госпитализации и назначении антибиотикотерапии, у собак C. difficile и её токсины были выявлены у клинически здоровых животных, и инфекционный процесс не может быть спровоцирован у здоровых собак даже после применения антибиотиков. При этом одно исследование [72] определило высеваемость этой бактерии у 29 % из случайной выборки собак в Японии и у 35 % пациентов ветеринарного госпиталя, которые лечились от болезней, не связанных с ЖКТ. Однако другие исследования получили более консервативные уровни высеваемости, с показателями 5,5 % у собак из приюта в Германии, положительных по C. difficile [73], и отсутствие высеваемости у 55 здоровых собак в Канаде [74].
Штаммы C. difficile, выращенные от собак, способны выделять токсины в условиях in vitro, которые выраженно нарушают плотные межклеточные контакты у собак и людей [75]. Авторы предположили, что, по аналогии с людьми, присутствие в микробиоме бактерий, дегидроксилирующих жёлчные кислоты, особенно Clostridium hiranonis, может выступать защитным фактором у собак. Вдобавок Sphingobacterium faecium также считается защищающим видом, который, вероятно, способен выделять сфингофосфолипид [75].
У собак с симптомами нарушения функции ЖКТ, положительных по C. difficile, остаётся загадкой, связаны ли симптомы с C. difficile, или это сопутствующая находка. В интересном исследовании [76] у пяти собак с хронической диареей и положительными тестами на C. difficile диарея рецидивировала после применения метронидазола, но прошла после коррекции диеты, при этом C. difficile более не определялась. Эти результаты указывают, что C. difficile была вторичным фактором, а не первичной причиной. Следует обращать внимание на зоонозный потенциал C. difficile [78], так как её опасные для человека ПЦР риботипы часто выделяются у собак [72; 77].
Развитие хронических заболеваний кишечника описано у собак после перенесённой парвовирусной инфекции [79], сходный сценарий описан и у людей [80; 81]. Некоторые изменения при острой диарее как у людей, так и у собак наблюдаются при хронических патологиях кишечника. Примеры таких изменений могут включать дисбактериоз и снижение численности бактерий микробиома, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты, которые отмечаются у собак при острой и хронической диарее [64; 65; 82]. Дополнительные исследования требуются, чтобы оценить долгосрочный эффект от острой диареи и её роли в развитии хронических патологий кишечника.
Хронические заболевания кишечника у собак в основном классифицируются по их ответу на лечение, выделяют диарею, связанную с диетой, с приёмом антибиотиков, и иммуносупрессивную (также известна как идиопатическое воспалительное заболевание кишечника (ИВЗК)). У всех собак хронические заболевания кишечника сопровождаются воспалением кишечника в той или иной степени, и, как следствие, изменениями микробиома в сравнении со здоровыми собаками [83].
В дополнение к дисбактериозу собаки с хроническими патологиями кишечника также демонстрируют значительное снижение разнообразия фекальной микрофлоры [82; 84]. У собак с ИВЗК численность представителей типа Fusobacteria снижена, как и представителей типа Bacteroidetes, особенно семейств Bacteroidaceae и Prevotellaceae (рода Prevotella) [82; 83]. Внутри типа Firmicutes наблюдается снижение численности представителей семейств Ruminococcaceae (род Ruminococcus), Veillonellaceae (род Megamonas) и Lachnospiraceae — у собак с идиопатическим воспалительным заболеванием кишечника [82–84]. Так как они являются основными производящими короткоцепочечные жирные кислоты бактериями, одновременное снижение численности всех этих таксонов снижает доступность короткоцепочечных жирных кислот, которые являются основным энергетическим ресурсом для клеток слизистой толстого кишечника [82]. При этом Gammaproteobacteria (сем. Enterobacteriaceae) как признак дисбактериоза представлены в большом количестве в образцах фекалий собак с хроническими патологиями кишечника [8; 82; 85; 86].
Когда стало возможным обнаружить специфические таксоны в образцах фекалий с помощью ПЦР, численность Blautia spp. (класс Clostridia), Faecalibacterium spp. (класс Clostridia) и Turicibacter spp. (класс Erysipelotrichia) в микробиоме оказалась значительно снижена [82; 84]. В то же время численность Fusobacterium spp. (класс Fusobacteriia) и Clostridium hiranonis (класс Clostridia) также была снижена, а численность Streptococcus spp. (класс Bacilli) и E. coli (класс Gammaproteobacteria) была повышена [82]. На основании специфических данных, собранных по результатам многих исследований в области молекулярной биологии [8; 87], серии ПЦР были выполнены для оценки дисбактериоза кишечника по образцам фекалий собак. Математическая модель была разработана [49] с учётом количественной оценки общего числа бактерий и ряда из семи групп бактерий: Faecalibacterium spp., Turicibacter spp., Escherichia coli, Streptococcus spp., Blautia spp., Fusobacterium spp. и Clostridium hiranonis, чтобы посчитать индекс дисбактериоза. Отрицательные значения индекса дисбактериоза соответствовали нормобиозу, а положительные значения — указывали на дисбактериоз. Индекс дисбактериоза является первым инструментом, позволяющим количественно оценить дисбактериоз кишечника, и со временем может применяться для мониторинга дисбактериоза в ответ на лечение. На сегодняшний день и другие исследования подтвердили, что индекс дисбактериоза повышен у собак с хроническими патологиями кишечника [26; 27; 82].
В дополнение к отклонениям со стороны короткоцепочечных жирных кислот отклонения в содержании аминокислот, таких как триптофан, также продемонстрировали сильную корреляцию с хроническими патологиями кишечника. Триптофан является незаменимой аминокислотой для собак и предшественником таких соединений, как кинуренин, серотонин, мелатонин и индол. Кинурениновый путь составляет почти 90 % катаболизма триптофана, и его активность контролируется ферментом индоламин-2,3-диоксигеназой-1 (IDO-1). У людей с ИВЗК было выявлено повышение экспрессии IDO-1, что сопровождалось снижением уровня триптофана в сыворотке крови. Сходные результаты наблюдались у кошек с хроническими патологиями кишечника, где уровень триптофана в сыворотке крови обратно коррелировал с тяжестью заболевания [88]. Повышение уровня катаболизма триптофана ограничивает продукцию серотонина, нейромедиатора, необходимого для секреции, моторики и чувствительности к боли в ЖКТ [89].
Доступность триптофана может также влиять напрямую на микрофлору кишечника, так как триптофан является предшественником для продукции соединений индола. Соединения индола могут быть синтезированы только бактериями, эти соединения показали способность повышать экспрессию генов, связанных с улучшением гомеостаза кишечника, снижением проницаемости стенки кишечника и повышением продукции муцина у разных видов животных [90; 91]. Триптофан являлся единственной аминокислотой, уровень которой был снижен в сыворотке крови при хронической энтеропатии с потерей белка — форме хронической энтеропатии, а сниженный уровень триптофана в сыворотке крови коррелировал со сниженным уровнем альбумина и худшим прогнозом [92]. В дополнение, у собак с ИВЗК некоторые соединения индола были значительно снижены в образцах фекалий [93].
В то время как собаки с диет-зависимой диареей или ИВЗК не отличаются с точки зрения общего богатства, разнообразия или состава микрофлоры до лечения, их ответ на лечение отличается [94]. После лечения и собаки с диет-зависимой диареей, и собаки с идиопатической воспалительной болезнью кишечника демонстрировали повышение численности представителей типа Bacteroides в мере, характерной для здорового микробиома толстого кишечника. Однако несколько специфических бактериальных таксонов отличались по численности между собаками с диет-зависимой диареей и ИВЗК. У собак с диет-зависимой диареей отмечалось снижение численности Enterococcus spp., Corynebacterium spp. и типа Proteobacteria (являются потенциальными патогенами) в ободочной кишке после лечения. В другом исследовании, сфокусированном на собаках с диет-зависимой диареей [22], после прекращения диеты, содержащей растительный белок, разнообразие микробиома более не отличалось от микробиома здоровых собак группы контроля, а богатство микрофлоры значительно повысилось.
В отличие от диет-зависимой диареи, у собак с идиопатическим воспалительным заболеванием кишечника, которых лечили иммуносупрессивной терапией с или без применения антибиотиков или других терапевтических мер, клиническое выздоровление не всегда сопровождалось восстановлением микрофлоры. В одном исследовании [84], при том, что все собаки клинически выздоровели, показатели разнообразия микрофлоры через 3 недели лечения показали тенденцию к дальнейшему снижению. Другое исследование оценивало восстановление метаболизма жёлчных кислот и индекса дисбактериоза на протяжении 3 месяцев, и в то время как метаболизм жёлчных кислот был восстановлен и численность C. hiranonis значительно возросла, численность других значимых видов микроорганизмов и индекс дисбактериоза были далеки от нормальных показателей [26].
Различия в ответе на терапию между собаками с диет-зависимой диареей и собаками с идиопатической воспалительной болезнью кишечника, по всей видимости, могут быть связаны с различиями в патогенезе заболеваний кишечника. В то время как собаки с ИВЗК имеют воспалительный процесс, который, вероятно, развивается из комбинации генетической предрасположенности и факторов окружающей среды, собаки с диет-зависимой диареей имеют воспалительный процесс, который запускается постоянным присутствием антигена алиментарного происхождения. Как только антиген исчезает из диеты, воспаление отступает, позволяя микробиому вернуться в статус нормобиоза.
Стратегии лечения и их влияние на микробиом
Манипуляции с микробиомом часто включают в протоколы лечения заболеваний ЖКТ. Антибиотики, пробиотики и фекальные трансплантанты работают за счёт уничтожения вредоносных бактерий или введения полезных бактерий. Однако манипулировать таким комплексным микробным сообществом непросто, и это часто приводит к смешанным результатам.
Антибиотики применяют как при острых, так и при хронических заболеваниях ЖКТ с целью уничтожить патогенные бактерии. Однако антибиотики имеют серьёзные последствия для микрофлоры, и часто отсутствует достаточная доказательная база, чтобы оправдать их применение. У собак с синдромом острой геморрагической диареи, к примеру, двойное слепое клиническое исследование, проведённое среди собак без септических процессов, не показало различий в уровне смертности, сроках госпитализации, степени проявления симптомов или исходе между группой, получавшей антибиотики, и группой плацебо [95]. Хроническую диарею также часто лечат с применением антибиотиков, однако исследование [96] не показало разницы в скорости клинического выздоровления у собак, получавших метронидазол и преднизолон, и у собак, получавших только преднизолон. Таким образом, целесообразность назначения антибиотиков следует оценивать для каждого конкретного случая, а не использовать их как стандартную терапию заболеваний ЖКТ. В конце концов, решение о назначении антибиотиков будет зависеть от степени клинических проявлений, результатов лабораторных исследований и опыта врача.
Тилозин и/или метронидазол — часто используемые антибиотики при заболеваниях ЖКТ, сильно нарушают микробиом кишечника [97]. Применение антибиотиков приводит к дисбактериозу кишечника, антибиотики широкого спектра приводят к резкому и значительному падению таксономического богатства, разнообразия и равномерности распределения микробиома [97]. После отмены антибиотиков многие бактериальные виды восстанавливаются, однако возвращение к первоначальному составу редко происходит в полной мере [98; 99].
Из-за этих хорошо известных осложнений использования антибиотиков обновлённый интерес стали проявлять к пробиотикам, пребиотикам и синбиотикам. В то время как пребиотики представляют собой непереваримые пищевые субстанции, как клетчатка, которые благоприятствуют экспансии полезных бактерий, уже присутствующих в организме носителя, пробиотики представляют собой экзогенный источник живых бактерий [100]. Синбиотики — это продукты, содержащие комбинацию пребиотиков и пробиотиков. Коммерчески доступно множество различных лекарственных составов и форм, но нет достаточной научной доказательной базы, чтобы отдать предпочтение той или иной [101].
У собак различные пищевые волокна были изучены с точки зрения пребиотических свойств и способности вносить специфические изменения в микробиом. Применение свекловичной стружки [9] привело к общему повышению численности представителей типа Firmicutes, с повышением численности класса Clostridia и снижением Erysipelotrichi, а также снижение численности типа Fusobacteria. Картофельная клетчатка [102] и соевая шелуха [103] были эффективны для увеличения численности ферментирующих клетчатку групп бактерий типа Firmicutes, включая Clostridium кластеров IV (сем. Ruminococcaceae, Faecalibacterium prausnitzii) и XIVa (сем. Lachnospiraceae, Blautia spp.). Применение полимеров фруктозы типа инулина также привело к увеличению численности бактерий типа Firmicutes, но семейств Erysipelotrichaceae и Turicibacteraceae [21]. Картофельная клетчатка, соевая шелуха и инсулиноподобные полимеры фруктозы также способствуют повышению количества короткоцепочечных жирных кислот, включая ацетат, бутират и пропионат. А также полимеры фруктозы типа инулина [21] способствуют повышению общего количества жёлчных кислот в фекалиях и снижению количества бактерий типа Proteobacteria (сем. Enterobacteriaceae). Инулин и стенки дрожжевых клеток были протестированы в комбинации с диетой из сырого мяса [104], и применение инулина способствовало снижению численности представителей семейства Enterobacteriaceae и повышению численности представителей родов Megamonas и Lactobacillus. Использование стенок дрожжевых клеток в свою очередь привело к повышению численности бактерий рода Bifidobacterium.
Бактерии из пробиотиков обычно не могут колонизировать кишечник из-за конкуренции с уже существующей микрофлорой. В исследовании у здоровых собак [15] повышение численности Enterococcus spp. и Streptococcus spp., индуцированное применением синбиотиков, содержащих семь пробиотических видов, было временным и вернулось к прежнему уровню численности после окончания лечения. Другое исследование обнаружило лишь небольшое повышение разнообразия видов при применении синбиотика, содержащего Enterococcusfaecium [105].
При этом пробиотики по-прежнему могут оказывать полезный эффект на микробиом через продукцию метаболитов и антимикробных пептидов, которые изменяют местную микрофлору и взаимодействуют с иммунной системой организма носителя [101]. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании [106] кисломолочный продукт, содержащий три имеющих значение для собак вида Lactobacillus spp., применяли для лечения собак с острой диареей. Применение кисломолочного продукта ускорило нормализацию консистенции стула и снизило численность выделяющих токсины бактерий штаммов Clostridium perfringens и Enterococcus faecium, которые оба являются потенциальными энтеропатогенами. При этом лечение также улучшило самочувствие собак за счёт улучшения аппетита. У упряжных собак, которые часто страдают от диареи в период усиленных тренировок, использовали синбиотик, который содержал три пробиотических вида. Этот синбиотик способствует значительному росту числа представителей семейства Lactobacillaceae в образцах фекалий через 2 недели лечения и имеет протективный эффект во время вспышки контагиозной диареи. Однако он не оказал значительного влияния на общий объём продукции короткоцепочечных жирных кислот [107].
Собакам с ИВЗК в некоторых случаях рекомендованы пробиотики в комбинации со стандартной иммуносупрессивной терапией. В исследовании [108] собаки с ИВЗК были рандомизированы на группы, получавшие стандартную терапию с пробиотиком или без пробиотика. Оба протокола лечения изменили число бактерий на слизистой кишечника собак с ИВЗК в сходной манере, с повышением числа бактерий в покрывающей слизи, и были связаны с быстрой клинической ремиссией, несмотря на отсутствие снижения уровня воспаления в гистопатологических пробах. Интересно отметить при этом, что только собаки, получавшие пробиотик, показали повышение экспрессии протеина межклеточных плотных соединений — это значит, что пробиотики могут оказывать полезные эффекты на гомеостаз слизистой, несмотря на отсутствие колонизации.
В другом исследовании [109] длительностью 60 дней пробиотик, содержащий несколько штаммов, стал успешной альтернативой комплексному протоколу лечения (преднизолон и метронидазол) у собак с идиопатической воспалительной болезнью кишечника. Степень проявления симптомов со временем значительно снизилась у обеих групп, хотя основной клинический признак исчез быстрее в группе, получавшей стандартное лечение. Однако когда микробиом кишечника оценили с помощью ПЦР для определения специфичных значимых таксонов через 30 дней после окончания лечения, только в группе, получавшей пробиотики, наблюдалось восстановление численности Faecalibacterium spp., бутират-продуцирующих бактерий, которых не было среди штаммов пробиотика. Значительных изменений в других бактериальных группах в ответ на терапию не наблюдалось.
Один из новых методов коррекции микробиома кишечника — это трансплантация фекальной микрофлоры, которая заключается в пересадке фекального материала от здоровых доноров к пациенту, обычно выполняется эндоскопически. У людей фекальные трансплантанты использовались с успехом для лечения рецидивирующих инфекций C. difficile на протяжении многих лет, с целью восстановления микробиома и ингибирования колонизации C. difficile. Трансплантация фекальной микрофлоры считается более безопасным и более эффективным лечением рецидивирующих инфекций C. difficile по сравнению со стандартной терапией антибиотиками [110; 111]. Были описаны случаи пробного лечения других заболеваний с применением трансплантации микрофлоры, включая ИВЗК [112]. У людей с ИВЗК уровень эффективности такого лечения колеблется от 22 до 60,5 % [113]. У собак проведено мало исследований типа случай-контроль, а в имеющихся описаниях клинических случаев используется множество различных техник, что делает затруднительным сравнение и оценку их эффективности [114].
В одном из исследований типа случай-контроль щенков, инфицированных парвовирусом, лечили с применением трансплантации фекальной микрофлоры. Результаты исследования показали значительное сокращение времени госпитализации и более быстрое выздоровление у щенков опытной группы, чем у щенков, которые получали стандартную терапию [115]. Однако когда у щенков при рождении в исследовательских целях применяли оральную трансплантацию фекальной микрофлоры, не наблюдалось улучшения в показателях образцов фекалий, и трансплантация микрофлоры не профилактировала развития диареи после рождения [116]. Исследование [117] дало хорошие результаты, пусть даже нестойкие, в серии клинических случаев 16 собак с ИВЗК с пролонгированной ремиссией, наблюдаемой при ежедневном пероральном применении замороженного донорского стула с последующей трансплантацией микрофлоры. В другом исследовании [118] успешное выздоровление кошки с язвенным колитом было описано после двукратной трансплантации микрофлоры.
Использование трансплантации микрофлоры для лечения дисбактериоза и связанных с ним заболеваний до сих пор требует дополнительных исследований для разработки идеальной методологии использования у собак. Такие факторы, как сохранение донорского материала (замораживание или консервация), доступ (эндоскопия через верхние отделы кишечника или колоноскопия) могут значительно влиять на результаты, и данные из исследований у людей не всегда актуальны для собак из-за анатомических и физиологических отличий. Вероятно, будущие исследования позволят полностью оценить потенциал и возможные ограничения трансплантации фекальной микрофлоры для лечения заболеваний ЖКТ.
Заключение
В заключение следует отметить, что состав микробиома кишечника у собак коррелирует с общим уровнем здоровья. Микробиом кишечника стабилен у взрослых здоровых собак, но возраст, диета и многие другие факторы окружающей среды могут влиять на сохранение здорового микробиома. У больных животных наблюдаются значительные изменения микробиома, их влияние на транскриптом, протеом и метоболом приводит к дисбактериозу. Дисбактериоз всегда следует иметь в виду, если есть патология ЖКТ. Восстановление состояния микробиома не всегда коррелирует с клиническим выздоровлением, и долгосрочное влияние изменений микробиома до сих пор неизвестно. Изучение бактериальных таксонов и выделяемых бактериями соединений, участвующих в патогенезе острых и хронических заболеваний ЖКТ, может способствовать развитию новых диагностических и терапевтических инструментов и должно быть изучено.
Участие авторов
Rachel Pilla выполнила большую часть письменной работы и редактирования. Jan Suhodolski дал ценный совет относительно содержания и редакции, чтобы этот документ принял настоящий вид.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование было проведено в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых договорённостей, которые могут представлять потенциальный конфликт интересов.
Литература
- O’Mahony SM, Clarke G, Borre YE, Dinan TG, Cryan JF. Serotonin, tryptophan metabolism and the brain-gut-microbiome axis. Behav Brain Res. (2015) 277:32–48. doi: 10.1016/j.bbr.2014.07.027.
- Tizard IR, Jones SW. The microbiota regulates immunity and immunologic diseases in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract. (2018) 48:307–22. doi: 10.1016/j.cvsm.2017.10.008.
- Suchodolski JS, Camacho J, Steiner JM. Analysis of bacterial diversity in the canine duodenum, jejunum, ileum, and colon by comparative 16S rRNA gene analysis. FEMS Microbiol Ecol (2008) 66:567–78. doi: 10.1111/j.1574–6941.2008.00521.x.
- German AJ, Day MJ, Ruaux CG, Steiner JM, Williams DA, Hall EJ. Comparison of direct and indirect tests for small intestinal bacterial overgrowth and antibiotic-responsive diarrhea in dogs. J Vet Intern Med. (2003) 17:33–43. doi: 10.1111/j.1939–1676.2003.tb01321.x.
- Mentula S, Harmoinen J, Heikkila M, Westermarck E, Rautio M, Huovinen P, et al. Comparison between cultured small-intestinal and fecal microbiotas in beagle dogs. Appl Environ Microbiol. (2005) 71:4169–75. doi: 10.1128/AEM.71.8.4169–4175.2005.
- Suchodolski JS. Intestinal microbiota of dogs and cats: a bigger world than we thought. Vet Clin North Am Small Anim Pract. (2011) 41:261–72. doi: 10.1016/j.cvsm.2010.12.006.
- Honneffer JB, Steiner JM, Lidbury JA, Suchodolski JS. Variation of the microbiota and metabolome along the canine gastrointestinal tract. Metabolomics. (2017) 13:26. doi: 10.1007/s11306–017–1165–3.
- Vazquez-Baeza Y, Hyde ER, Suchodolski JS, Knight R. Dog and human inflammatory bowel disease rely on overlapping yet distinct dysbiosis networks. Nat Microbiol. (2016) 1:16177. doi: 10.1038/nmicrobiol.2016.177.
- Middelbos IS, Vester Boler BM, Qu A, White BA, Swanson KS, Fahey GC Jr. Phylogenetic characterization of fecal microbial communities of dogs fed diets with or without supplemental dietary fiber using 454 pyrosequencing. PLoS ONE. (2010) 5: e9768. doi: 10.1371/journal.pone.0009768.
- Hand D, Wallis C, Colyer A, Penn CW. Pyrosequencing the canine faecal microbiota: breadth and depth of biodiversity. PLoS ONE. (2013) 8: e53115. doi: 10.1371/journal.pone.0053115.
- Suchodolski JS, Ruaux CG, Steiner JM, Fetz K, Williams DA. Assessment of the qualitative variation in bacterial microflora among compartments of the intestinal tract of dogs by use of a molecular fingerprinting technique. Am J Vet Res. (2005) 66:1556–62. doi: 10.2460/ajvr.2005.66.1556.
- Guard BC, Suchodolski JS. HORSE SPECIES SYMPOSIUM: canine intestinal microbiology and metagenomics: from phylogeny to function. J Anim Sci. (2016) 94:2247–61. doi: 10.2527/jas.2015–0029.
- Handl S, Dowd SE, Garcia-Mazcorro JF, Steiner JM, Suchodolski JS. Massive parallel 16S rRNA gene pyrosequencing reveals highly diverse fecal bacterial and fungal communities in healthy dogs and cats. FEMS Microbiol Ecol. (2011) 76:301–10. doi: 10.1111/j.1574–6941.2011.01058.x.
- Garcia-Mazcorro JF, Dowd SE, Poulsen J, Steiner JM, Suchodolski JS. Abundance and short-term temporal variability of fecal microbiota in healthy dogs. Microbiologyopen. (2012) 1:340–7. doi: 10.1002/mbo3.36.
- Garcia-Mazcorro JF, Lanerie DJ, Dowd SE, Paddock CG, Grutzner N, Steiner JM, et al. Effect of a multi-species synbiotic formulation on fecal bacterial microbiota of healthy cats and dogs as evaluated by pyrosequencing. FEMS Microbiol Ecol. (2011) 78:542–54. doi: 10.1111/j.1574–6941.2011.01185.x.
- Song SJ, Lauber C, Costello EK, Lozupone CA, Humphrey G, Berg-Lyons D, et al. Cohabiting family members share microbiota with one another and with their dogs. eLife. (2013) 2: e00458. doi: 10.7554/eLife.00458.
- Vital M, Gao J, Rizzo M, Harrison T, Tiedje JM. Diet is a major factor governing the fecal butyrate-producing community structure across Mammalia, Aves and Reptilia. ISME J. (2015) 9:832–43. doi: 10.1038/ismej.2014.179.
- Bermingham EN, Young W, Kittelmann S, Kerr KR, Swanson KS, Roy NC, et al. Dietary format alters fecal bacterial populations in the domestic cat (Felis catus). Microbiologyopen. (2013) 2:173–81. doi: 10.1002/mbo3.60.
- Bermingham EN, Maclean P, Thomas DG, Cave NJ, Young W. Key bacterial families (Clostridiaceae, Erysipelotrichaceae and Bacteroidaceae) are related to the digestion of protein and energy in dogs. PeerJ. (2017) 5: e3019. doi: 10.7717/peerj.3019.
- David LA, Maurice CF, Carmody RN, Gootenberg DB, Button JE, Wolfe BE, et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature. (2014) 505:559–63. doi: 10.1038/nature12820.
- Alexander C, Cross TL, Devendran S, Neumer F, Theis S, Ridlon JM, et al. Effects of prebiotic inulin-type fructans on blood metabolite and hormone concentrations and faecal microbiota and metabolites in overweight dogs. Br J Nutr. (2018) 120:711–20. doi: 10.1017/S00071145180 01952.
- Bresciani F, Minamoto Y, Suchodolski JS, Galiazzo G, Vecchiato CG, Pinna C, et al. Effect of an extruded animal protein-free diet on fecal microbiota of dogs with food-responsive enteropathy. J Vet Intern Med. (2018) 32:1903–10. doi: 10.1111/jvim.15227.
- Schmidt M, Unterer S, Suchodolski JS, Honneffer JB, Guard BC, Lidbury JA, et al. The fecal microbiome and metabolome differs between dogs fed Bones and Raw Food (BARF) diets and dogs fed commercial diets. PLoS ONE. (2018) 13: e0201279. doi: 10.1371/journal.pone.0201279.
- Kim J, An JU, Kim W, Lee S, Cho S. Differences in the gut microbiota of dogs (Canis lupus familiaris) fed a natural diet or a commercial feed revealed by the Illumina MiSeq platform. Gut Pathog. (2017) 9:68. doi: 10.1186/s13099–017–0218–5.
- Herstad KMV, Gajardo K, Bakke AM, Moe L, Ludvigsen J, Rudi K, et al. A diet change from dry food to beef induces reversible changes on the faecal microbiota in healthy, adult client-owned dogs. BMC Vet Res. (2017) 13:147. doi: 10.1186/s12917–017–1073–9.
- Guard BC, Honneffer JB, Jergens AE, Jonika MM, Toresson L, Lawrence YA, et al. Longitudinal assessment of microbial dysbiosis, fecal unconjugated bile acid concentrations, and disease activity in dogs with steroid-responsive chronic inflammatory enteropathy. J Vet Intern Med. (2019) 33:1295–305. doi: 10.1111/jvim.15493.
- Giaretta PR, Rech RR, Guard BC, Blake AB, Blick AK, Steiner JM, et al. Comparison of intestinal expression of the apical sodium-dependent bile acid transporter between dogs with and without chronic inflammatory enteropathy. J Vet Intern Med. (2018) 32:1918–26. doi: 10.1111/jvim.15332.
- Turroni F, van Sinderen D, Ventura M. Genomics and ecological overview of the genus Bifidobacterium. Int J Food Microbiol. (2011) 149:37–44. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.12.010.
- Rivera-Chavez F, Zhang LF, Faber F, Lopez CA, Byndloss MX, Olsan EE, et al. Depletion of butyrate-producing clostridia from the gut microbiota drives an aerobic luminal expansion of salmonella. Cell Host Microbe. (2016) 19:443–54. doi: 10.1016/j.chom.2016.03.004.
- Schauf S, de la Fuente G, Newbold CJ, Salas-Mani A, Torre C, Abecia L, et al. Effect of dietary fat to starch content on fecal microbiota composition and activity in dogs. J Anim Sci. (2018) 96:3684–98. doi: 10.1093/jas/sky264.
- Potrykus J, White RL, Bearne SL. Proteomic investigation of amino acid catabolism in the indigenous gut anaerobe Fusobacterium varium. Proteomics. (2008) 8:2691–703. doi: 10.1002/pmic.200700437.
- Bermingham EN, Young W, Butowski CF, Moon CD, Maclean PH, Rosendale D, et al. The fecal microbiota in the domestic cat (Felis catus) is influenced by interactions between age and diet; A Five Year Longitudinal Study. Front Microbiol. (2018) 9:1231. doi: 10.3389/fmicb.2018.01231.
- Wu X, Zhang H, Chen J, Shang S, Yan J, Chen Y, et al. Analysis and comparison of the wolf microbiome under different environmental factors using three different data of Next Generation Sequencing. Sci Rep. (2017) 7:11332. doi: 10.1038/s41598–017–11770–4.
- Lyu T, Liu G, Zhang H, Wang L, Zhou S, Dou H, et al. Changes in feeding habits promoted the differentiation of the composition and function of gut microbiotas between domestic dogs (Canis lupus familiaris) and gray wolves (Canis lupus). AMB Exp. (2018) 8:123. doi: 10.1186/s13568–018–0652-x.
- Menke S, Meier M, Mfune JKE, Melzheimer J, Wachter B, Sommer S. Effects of host traits and land-use changes on the gut microbiota of the Namibian black-backed jackal (Canis mesomelas). FEMS Microbiol Ecol. (2017) 93: fix123. doi: 10.1093/femsec/fix123.
- Sandri M, Dal Monego S, Conte G, Sgorlon S, Stefanon B. Raw meat based diet influences faecal microbiome and end products of fermentation in healthy dogs. BMC Vet Res. (2017) 13:65. doi: 10.1186/s12917–017–0981-z.
- Mason PE, Kerns WP II. Gamma hydroxybutyric acid (GHB) intoxication. AcadEmergMed. (2002) 9:730–9. doi: 10.1197/aemj.9.7.730.
- Thwaites DT, Basterfield L, McCleave PM, Carter SM, Simmons NL. Gamma-Aminobutyric acid (GABA) transport across human intestinal epithelial (Caco-2) cell monolayers. Br J Pharmacol. (2000) 129:457–64. doi: 10.1038/sj.bjp.0703069.
- Barrett E, Ross RP, O’Toole PW, Fitzgerald GF, Stanton C. gamma-Aminobutyric acid production by culturable bacteria from the human intestine. J Appl Microbiol. (2012) 113:411–7. doi: 10.1111/j. 1365–2672.2012.05344.x.
- Ghaisas S, Maher J, Kanthasamy A. Gut microbiome in health and disease: linking the microbiome-gut-brain axis and environmental factors in the pathogenesis of systemic and neurodegenerative diseases. Pharmacol Ther. (2016) 158:52–62. doi: 10.1016/j.pharmthera.2015.11.012.
- De Vadder F, Grasset E, Manneras Holm L, Karsenty G, Macpherson AJ, Olofsson LE, et al. Gut microbiota regulates maturation of the adult enteric nervous system via enteric serotonin networks. Proc Natl Acad Sci USA. (2018) 115:6458–63. doi: 10.1073/pnas.1720017115.
- Hata T, Asano Y, Yoshihara K, Kimura-Todani T, Miyata N, Zhang XT, et al. Regulation ofgutluminal serotonin bycommensal microbiota in mice. PLoS ONE. (2017) 12: e0180745. doi: 10.1371/journal.pone.0180745.
- Diaz Heijtz R, Wang S, Anuar F, Qian Y, Bjorkholm B, Samuelsson A, et al. Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. Proc Natl Acad Sci USA. (2011) 108:3047–52. doi: 10.1073/pnas.1010529108.
- Backhed F, Roswall J, Peng Y, Feng Q, Jia H, Kovatcheva-Datchary P, et al. Dynamics and stabilization of the human gut microbiome during the first year of life. Cell Host Microbe. (2015) 17:690–703. doi: 10.1016/j.chom.2015.04.004.
- Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, Magris M, Hidalgo G, Fierer N, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci USA. (2010) 107:11971–5. doi: 10.1073/pnas.1002601107.
- Cigarroa A, Suchodolski JS. Assessing the development of the postnatal canine gastrointestinal microbiome utilizing the dysbiosis index. In: Proceedings of the National Veterinary Scholars Symposium. College Station, TX (2018).
- Oh C, Lee K, Cheong Y, Lee SW, Park SY, Song CS, et al. Comparison of the oral microbiomes of canines and their owners using next-generation sequencing. PLoS ONE. (2015) 10: e0131468. doi: 10.1371/journal.pone.0131468.
- Faith JJ, Guruge JL, Charbonneau M, Subramanian S, Seedorf H, Goodman AL, et al. The long-term stability of the human gut microbiota. Science. (2013) 341:1237439. doi: 10.1126/science.1237439.
- AlShawaqfeh MK, Wajid B, Minamoto Y, Markel M, Lidbury JA, Steiner JM, et al. A dysbiosis index to assess microbial changes in fecal samples of dogs with chronic inflammatory enteropathy. FEMS Microbiol Ecol (2017) 93: fix136. doi: 10.1093/femsec/fix136.
- O’Toole PW, Jeffery IB. Gut microbiota and aging. Science. (2015) 350:12145. doi: 10.1126/science.aac8469.
- Candela M, Biagi E, Brigidi P, O’Toole PW, De Vos WM. Maintenance of a healthy trajectory of the intestinal microbiome during aging: a dietary approach. Mech Ageing Dev. (2014) 136–7:70–5. doi: 10.1016/j.mad.2013.12.004.
- Hughes GM, Leech J, Puechmaille SJ, Lopez JV, Teeling EC. Is there a link between aging and microbiome diversity in exceptional mammalian longevity? PeerJ. (2018) 6: e4174. doi: 10.7717/peerj.4174.
- Zeng MY, Inohara N, Nunez G. Mechanisms of inflammation-driven bacterial dysbiosis in the gut. Mucosal Immunol. (2017) 10:18–26. doi: 10.1038/mi.2016.75.
- Rivera-Chavez F, Lopez CA, Baumler AJ. Oxygen as a driver of gut dysbiosis. Free Radic Biol Med. (2017) 105:93–101. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.09.022.
- Rigottier-Gois L. Dysbiosis in inflammatory bowel diseases: the oxygen hypothesis. ISME J. (2013) 7:1256–61. doi: 10.1038/ismej.2013.80.
- Atarashi K, Tanoue T, Shima T, Imaoka A, Kuwahara T, Momose Y, et al. Induction of colonic regulatory T cells by indigenous Clostridium species. Science. (2011) 331:337–41. doi: 10.1126/science.1198469.
- Ivanov II, Atarashi K, Manel N, Brodie EL, Shima T, Karaoz U, et al. Induction of intestinal Th17 cells by segmented filamentous bacteria. Cell. (2009) 139:485–98. doi: 10.1016/j.cell.2009.09.033.
- Duboc H, Rajca S, Rainteau D, Benarous D, Maubert MA, Quervain E, et al. Connecting dysbiosis, bile-acid dysmetabolism and gut inflammation in inflammatory bowel diseases. Gut. (2013) 62:531–9. doi: 10.1136/gutjnl-2012–302578.
- Zapata HJ, Quagliarello VJ. The microbiota and microbiome in aging: potential implications in health and age-related diseases. J Am Geriatr Soc. (2015) 63:776–81. doi: 10.1111/jgs.13310.
- Kieler IN, Shamzir Kamal S, Vitger AD, Nielsen DS, Lauridsen C, Bjornvad CR. Gut microbiota composition may relate to weight loss rate in obese pet dogs. Vet Med Sci. (2017) 3:252–62. doi: 10.1002/vms3.80.
- Montoya-Alonso JA, Bautista-Castano I, Pena C, Suarez L, Juste MC, Tvarijonaviciute A. Prevalence of canine obesity, obesity-related metabolic dysfunction, and relationship with owner obesity in an obesogenic region of Spain. Front Vet Sci. (2017) 4:59. doi: 10.3389/fvets.2017.00059.
- Zitvogel L, Daillere R, Roberti MP, Routy B, Kroemer G. Anticancer effects of the microbiome and its products. Nat Rev Microbiol. (2017) 15:465–78. doi: 10.1038/nrmicro.2017.44.
- Wu J, Zhang Y, Yang H, Rao Y, Miao J, Lu X. Intestinal microbiota as an alternative therapeutic target for epilepsy. Can J Infect Dis Med Microbiol. (2016) 2016:9032809. doi: 10.1155/2016/9032809.
- Suchodolski JS, Markel ME, Garcia-Mazcorro JF, Unterer S, Heilmann RM, Dowd SE, et al. The fecal microbiome in dogs with acute diarrhea and idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS ONE. (2012) 7: e51907. doi: 10.1371/journal.pone.0051907.
- Guard BC, Barr JW, Reddivari L, Klemashevich C, Jayaraman A, Steiner JM, et al. Characterization of microbial dysbiosis and metabolomic changes in dogs with acute diarrhea. PLoS ONE. (2015) 10: e0127259. doi: 10.1371/journal.pone.0127259.
- Unterer S, Busch K, Leipig M, Hermanns W, Wolf G, Straubinger RK, et al. Endoscopically visualized lesions, histologic findings, and bacterial invasion in the gastrointestinal mucosa of dogs with acute hemorrhagic diarrhea syndrome. J Vet Intern Med. (2014) 28:52–8. doi: 10.1111/jvim.12236.
- Busch K, Suchodolski JS, Kuhner KA, Minamoto Y, Steiner JM, Mueller RS, et al. Clostridium perfringens enterotoxin and Clostridium difficile toxin A/B do not play a role in acute haemorrhagic diarrhoea syndrome in dogs. Vet Rec. (2015) 176:253. doi: 10.1136/vr.102738.
- Leipig-Rudolph M, Busch K, Prescott JF, Mehdizadeh Gohari I, Leutenegger CM, Hermanns W, et al. Intestinal lesions in dogs with acute hemorrhagic diarrhea syndrome associated with netF-positive Clostridium perfringens type A. J Vet Diagn Invest. (2018) 30:495–503. doi: 10.1177/1040638718766983.
- Sarwar F, Werner M, Ziese A, Busch K, Minamoto Y, Blake A, et al. Prevalence of Clostridium perfringens Encoding netF Gene in Dogs With Acute and Chronic Gastrointestinal Diseases. Seattle: American College of Veterinary Internal Medicine (2018).
- Ziese AL, Suchodolski JS, Hartmann K, Busch K, Anderson A, Sarwar F, et al. Effect of probiotic treatment on the clinical course, intestinal microbiome, and toxigenic Clostridium perfringens in dogs with acute hemorrhagic diarrhea. PLoS ONE. (2018) 13: e0204691. doi: 10.1371/journal.pone.0204691.
- Lawson PA, Citron DM, Tyrrell KL, Finegold SM. Reclassification of Clostridium difficile as Clostridioides difficile (Hall and O’Toole 1935) Prevot 1938. Anaerobe. (2016) 40:95–9. doi: 10.1016/j.anaerobe.2016.06.008.
- Usui M, Suzuki K, Oka K, Miyamoto K, Takahashi M, Inamatsu T, et al. Distribution and characterization of Clostridium difficile isolated from dogs in Japan. Anaerobe. (2016) 37:58–61. doi: 10.1016/j.anaerobe.2015.10.002.
- Schneeberg A, Rupnik M, Neubauer H, Seyboldt C. Prevalence and distribution of Clostridium difficile PCR ribotypes in cats and dogs from animal shelters in Thuringia, Germany. Anaerobe. (2012) 18:484–8. doi: 10.1016/j.anaerobe.2012.08.002.
- Weese JS, Staempfli HR, Prescott JF, Kruth SA, Greenwood SJ, Weese HE. The roles of Clostridium difficile and enterotoxigenic Clostridium perfringens in diarrhea in dogs. J Vet Intern Med. (2001) 15:374–8. doi: 10.1892/0891–6640(2001)015<0374: TRODAE>2.3.CO;2.
- Stone NE, Nunnally AE, Jimenez V Jr, Cope EK, Sahl JW, Sheridan K, et al. Domestic canines do not display evidence of gut microbial dysbiosis in the presence of Clostridioides (Clostridium) difficile, despite cellular susceptibility to its toxins. Anaerobe. (2019) 58:53–72. doi: 10.1016/j.anaerobe.2019.03.017.
- Silva ROS, de Oliveira CA Jr, Blanc DS, Pereira ST, de Araujo MCR, Vasconcelos A, et al. Clostridioides difficile infection in dogs with chronic-recurring diarrhea responsive to dietary changes. Anaerobe. (2018) 51:50–3. doi: 10.1016/j.anaerobe.2018.03.011.
- Andres-Lasheras S, Martin-Burriel I, Mainar-Jaime RC, Morales M, Kuijper E, Blanco JL, et al. Preliminary studies on isolates of Clostridium difficile from dogs and exotic pets. BMC Vet Res. (2018) 14:77. doi: 10.1186/s12917–018–1402–7.
- Rodriguez C, Van Broeck J, Taminiau B, Delmee M, Daube G. Clostridium difficile infection: early history, diagnosis and molecular strain typing methods. Microb Pathog. (2016) 97:59–78. doi: 10.1016/j.micpath.2016.05.018.
- Kilian E, Suchodolski JS, Hartmann K, Mueller RS, Wess G, Unterer S. Long-term effects of canine parvovirus infection in dogs. PLoS ONE. (2018) 13: e0192198. doi: 10.1371/journal.pone.0192198.
- Garcia Rodriguez LA, Ruigomez A, Panes J. Acute gastroenteritis is followed by an increased risk of inflammatory bowel disease. Gastroenterology. (2006) 130:1588–94. doi: 10.1053/j.gastro.2006.02.004.
- Jalanka J, Salonen A, Fuentes S, de Vos WM. Microbial signatures in post-infectious irritable bowel syndrome-toward patient stratification for improved diagnostics and treatment. Gut Microbes. (2015) 6:364–9. doi: 10.1080/19490976.2015.1096486.
- Minamoto Y, Minamoto T, Isaiah A, Sattasathuchana P, Buono A, Rangachari VR, et al. Fecal short-chain fatty acid concentrations and dysbiosis in dogs with chronic enteropathy. J Vet Intern Med. (2019) 33:1608–18. doi: 10.1111/jvim.15520.
- Suchodolski JS, Dowd SE, Wilke V, Steiner JM, Jergens AE. 16S rRNA gene pyrosequencing reveals bacterial dysbiosis in the duodenum of dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS ONE. (2012) 7: e39333. doi: 10.1371/journal.pone.0039333.
- Minamoto Y, Otoni CC, Steelman SM, Buyukleblebici O, Steiner JM, Jergens AE, et al. Alteration of the fecal microbiota and serum metabolite profiles in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. Gut Microbes. (2015) 6:33–47. doi: 10.1080/19490976.2014.997612.
- Xenoulis PG, Palculict B, Allenspach K, Steiner JM, Van House AM, Suchodolski JS. Molecular-phylogenetic characterization of microbial communities imbalances in the small intestine of dogs with inflammatory bowel disease. FEMS Microbiol Ecol. (2008) 66:579–89. doi: 10.1111/j.1574–6941.2008.00556.x.
- Suchodolski JS, Xenoulis PG, Paddock CG, Steiner JM, Jergens AE. Molecular analysis of the bacterial microbiota in duodenal biopsies from dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. Vet Microbiol. (2010) 142:394–400. doi: 10.1016/j.vetmic.2009.11.002.
- Honneffer JB. Microbiota alterations in acute and chronic gastrointestinal inflammation of cats and dogs. World J Gastroenterol. (2014) 20:16489–97. doi: 10.3748/wjg.v20.i44.16489.
- Sakai K, Maeda S, Yonezawa T, Matsuki N. Decreased plasma amino acid concentrations in cats with chronic gastrointestinal diseases and their possible contribution in the inflammatory response. Vet Immunol Immunopathol (2018) 195:1–6. doi: 10.1016/j.vetimm.2017.11.001.
- Foster JA, Rinaman L, Cryan JF. Stress & the gut-brain axis: regulation by the microbiome. Neurobiol Stress. (2017) 7:124–36. doi: 10.1016/j.ynstr.2017.03.001.
- Kim CJ, Kovacs-Nolan JA, Yang CB, Archbold T, Fan MZ, Mine Y. L- Tryptophan exhibits therapeutic function in a porcine model of dextran sodium sulfate (DSS)-induced colitis. J Nutr Biochem. (2010) 21:468–75. doi: 10.1016/j.jnutbio.2009.01.019.
- Berstad A, Raa J, Valeur J. Indole — the scent of a healthy ‘inner soil’. Microb Ecol Health Dis. (2015) 26:27997. doi: 10.3402/mehd.v26.27997.
- Kathrani A, Allenspach K, Fascetti AJ, Larsen JA, Hall EJ. Alterations in serum amino acid concentrations in dogs with protein-losing enteropathy. J Vet Intern Med. (2018) 32:1026–32. doi: 10.1111/jvim.15116.
- Honneffer JB. Untargeted metabolomics reveals disruption within bile acid, cholesterol, and tryptophan metabolic pathways in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. Gasteroentrology. (2015) 148: S-715. doi: 10.1016/S0016–5085(15)32435–5.
- Kalenyak K, Isaiah A, Heilmann RM, Suchodolski JS, Burgener IA. Comparison of the intestinal mucosal microbiota in dogs diagnosed with idiopathic inflammatory bowel disease and dogs with food-responsive diarrhea before and after treatment. FEMS Microbiol Ecol. (2018) 94: fix173. doi: 10.1093/femsec/fix173.
- Unterer S, Strohmeyer K, Kruse BD, Sauter-Louis C, Hartmann K. Treatment of aseptic dogs with hemorrhagic gastroenteritis with amoxicillin/clavulanic acid: a prospective blinded study. J Vet Intern Med. (2011) 25:973–9. doi: 10.1111/j.1939–1676.2011.00765.x.
- Jergens AE, Crandell J, Morrison JA, Deitz K, Pressel M, Ackermann M, et al. Comparison of oral prednisone and prednisone combined with metronidazole for induction therapy of canine inflammatory bowel disease: a randomized-controlled trial. J Vet Intern Med. (2010) 24:269–77. doi: 10.1111/j.1939–1676.2009.0447.x.
- Suchodolski JS, Dowd SE, Westermarck E, Steiner JM, Wolcott RD, Spillmann T, et al. The effect of the macrolide antibiotic tylosin on microbial diversity in the canine small intestine as demonstrated by massive parallel 16S rRNA gene sequencing. BMC Microbiol. (2009) 9:210. doi: 10.1186/1471–2180–9–210.
- Francino MP. Antibiotics and the human gut microbiome: dysbioses and accumulation of resistances. Front Microbiol. (2016) 6:1543. doi: 10.3389/fmicb.2015.01543.
- Reese AT, Cho EH, Klitzman B, Nichols SP, Wisniewski NA, Villa MM, et al. Antibiotic-induced changes in the microbiota disrupt redox dynamics in the gut. Elife. (2018) 7: e35987. doi: 10.7554/eLife.35987.
- Deng P, Swanson KS. Gut microbiota of humans, dogs and cats: current knowledge and future opportunities and challenges. Br J Nutr. (2015) 113(Suppl): S6–17. doi: 10.1017/S0007114514002943.
- Schmitz S, Suchodolski J. Understanding the canine intestinal microbiota and its modification by pro-, pre- and synbiotics — what is the evidence? Vet MedSci. (2016) 2:71–94. doi: 10.1002/vms3.17.
- Panasevich MR, Kerr KR, Dilger RN, Fahey GC Jr, Guerin-Deremaux L, Lynch GL, et al. Modulation of the faecal microbiome of healthy adult dogs by inclusion of potato fibre in the diet. Br J Nutr. (2015) 113:125–33. doi: 10.1017/S0007114514003274.
- Myint H, Iwahashi Y, Koike S, Kobayashi Y. Effect of soybean husk supplementation on the fecal fermentation metabolites and microbiota of dogs. Anim Sci J. (2017) 88:1730–6. doi: 10.1111/asj.12817.
- Beloshapka AN, Dowd SE, Suchodolski JS, Steiner JM, Duclos L, Swanson KS. Fecal microbial communities of healthy adult dogs fed raw meat-based diets with or without inulin or yeast cell wall extracts as assessed by 454 pyrosequencing. FEMS Microbiol Ecol. (2013) 84:532–41. doi: 10.1111/1574–6941.12081.
- Pilla R, Guard BC, Steiner JM, Gaschen FP, Olson E, Werling D, et al. Administration of a synbiotic containing Enterococcus faecium does not significantly alter fecal microbiota richness or diversity in dogs with and without food-responsive chronic enteropathy. Front Vet Sci. (2019) 6:277. doi: 10.3389/fvets.2019.00277.
- Gomez-Gallego C, Junnila J, Mannikko S, Hameenoja P, Valtonen E, Salminen S, et al. A canine-specific probiotic product in treating acute or intermittent diarrhea in dogs: a double-blind placebo-controlled efficacy study. Vet Microbiol. (2016) 197:122–8. doi: 10.1016/j.vetmic.2016. 11.015.
- Gagne JW, Wakshlag JJ, Simpson KW, Dowd SE, Latchman S, Brown DA, et al. Effects of a synbiotic on fecal quality, short-chain fatty acid concentrations, and the microbiome of healthy sled dogs. BMC Vet Res. (2013) 9:246. doi: 10.1186/1746–6148–9–246.
- White R, Atherly T, Guard B, Rossi G, Wang C, Mosher C, et al. Randomized, controlled trial evaluating the effect of multi-strain probiotic on the mucosal microbiota in canine idiopathic inflammatory bowel disease. Gut Microbes. (2017) 8:451–66. doi: 10.1080/19490976.2017.1334754.
- Rossi G, Pengo G, Caldin M, Palumbo Piccionello A, Steiner JM, Cohen ND, et al. Comparison of microbiological, histological, and immunomodulatory parameters in response to treatment with either combination therapy with prednisone and metronidazole or probiotic VSL#3 strains in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS ONE. (2014) 9: e94699. doi: 10.1371/journal.pone.0094699.
- Drekonja D, Reich J, Gezahegn S, Greer N, Shaukat A, MacDonald R, et al. Fecal microbiota transplantation for Clostridium difficile infection: a systematic review. Ann Intern Med. (2015) 162:630–8. doi: 10.7326/M14–2693.
- Cammarota G, Masucci L, Ianiro G, Bibbo S, Dinoi G, Costamagna G, et al. Randomised clinical trial: faecal microbiota transplantation by colonoscopy vs. vancomycin for the treatment of recurrent Clostridium difficile infection. Aliment Pharmacol Ther. (2015) 41:835–43. doi: 10.1111/apt.13144.
- Ishikawa D, Sasaki T, Osada T, Kuwahara-Arai K, Haga K, Shibuya T, et al. Changes in intestinal microbiota following combination therapy with fecal microbial transplantation and antibiotics for Ulcerative Colitis. Inflamm BowelDis. (2017) 23:116–25. doi: 10.1097/MIB.0000000000000975.
- Browne AS, Kelly CR. Fecal transplant in inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am. (2017) 46:825–37. doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.005.
- Chaitman J, Garcia-Mazcorro JF, Jergens A, Gaschen F, Marks S, Marroquin- Cardona A, et al. Commentary on key aspects of fecal microbiota transplantation in small animal practice. Vet Med Res Rep. (2016) 7:71–4. doi: 10.2147/VMRR.S105238.
- Pereira GQ, Gomes LA, Santos IS, Alfieri AF, Weese JS, Costa MC. Fecal microbiota transplantation in puppies with canine parvovirus infection. J Vet InternMed. (2018) 32:707–11. doi:10.1111/jvim.15072.
- Burton EN, O’Connor E, Ericsson AC, Franklin CL. Evaluation of fecal microbiota transfer as treatment for postweaning diarrhea in research- colony puppies. J Am Assoc Lab Anim Sci. (2016) 55:582–7.
- Bottero. Trapianto del microbiota fecale (FMT) in 16 cani affetti da IBD idiopatica. Veterinaria. (2017) 31:31–45.
- Furmanski S, Mor T. First case report of fecal microbiota transplantation in a cat in Israel. IsrJVetMed. (2017) 12:35–41.
Источник: Frontiers in Veterinary Science 6:498. doi: 10.3389/fvets.2019.00498. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
СВМ № 4/2021
Вас также может заинтересовать статья:
Бактерии рода Campylobacter и нейтрофильное воспаление кишечника у кошек